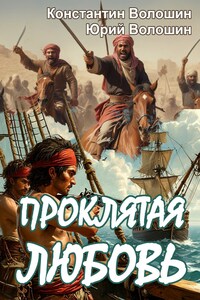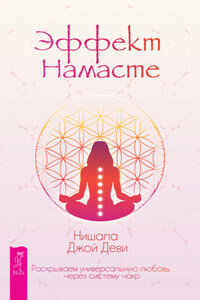Молодой послушник Тимошка Скудельников смотрел в одну
точку на потолке. Ничего он там не видел, но продолжал смотреть
без всякой мысли в голове.
Лёжа на лавке без всякой подстилки, юный послушник
продолжал смотреть, силясь хоть что-то рассмотреть. Бесполезно!
Оконце, куда и голова не пролезет, затянуто рыбьим пузырём, и то
открывается лишь во время приноса ему куска хлеба и кружки воды. И
это на весь день.
Тимошка вздохнул. Жутко хотелось есть, а всё тело
словно одеревенело от холода. На нем была старая с дырами ряса из
грубой ткани без цвета, на голове колпак из похожего материала, а
на ногах лапти. Выше ноги обёрнуты сухой травой, что закреплена
полосками лыка. Он постоянно дрожал, и лишь превозмогая апатию,
вставал и делал движения. Пытался согреться. С каждым днём отрок
все ленивее и без охоты это проделывал. А тяжёлый старый фолиант
одиноко лежал на лавке. Читать его он перестал ещё позавчера. Да и
то приходилось читать в редкие дни, когда в окошко попадал
солнечный свет. А вчера ему стало лень взять книгу, хотя солнце
заглядывало к нему надолго, как показалось.
Сегодня солнца не было. Тимошка предавался апатии,
ожидая прихода инока Митрофана, старого и немощного, годящегося
лишь на такую работу, как принести отроку эту нехитрую
еду.
Наконец окошко открылось, пропустив внутрь сруба
очередную порцию холода.
– Эй! – услышал голос приятеля уже инока,
постриженного полгода назад. – Поторопись, друг. Сегодня я тебя
упросил покормить нашего келаря. Ух и вредный монах! Бери, а то
остынет! Как ты тут? Выдержишь хоть? Я бы не смог, хоть в вере
твёрд, не то, что ты.
Тимошка поспешил принять кружку и ломоть хлебы с
луковицей. Из кружки шёл духмяный пар. Стало понятно, что то был
навар сосновых иголок с травами. Прежний кормилец такого себе не
позволял. Тимошка хотел спросить, да оконце закрылось, а голос
отца Серафима что-то грозно выговаривал Митрофану.
Пойло ещё не успело остыть, и Тимошка жадно стал
пить, запихивая в рот куски чёрствой горбушки, спеша побыстрее хоть
чуточку придушить голодную резь с животе. Тем более, что терпкая
жидкость так приятно согревало нутро. А счастье так быстро
кончилось, что пришлось тяжко вздохнуть. И всё же стало веселей.
Услышал жиденький голос монастырского колокола и узнал, что полдень
миновал. А в голове стали копошиться вялые думы. И все мрачные и
тоскливые.