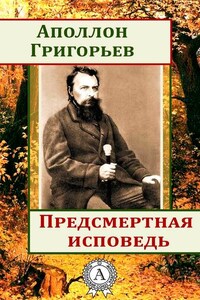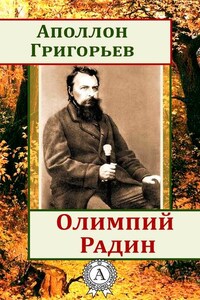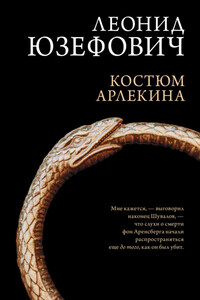Был полдень. На Невском еще не мелькали обычные группы и лица. Все, что шло по нему, шло с особенною целию, и эта ли цель или довольно сильный мороз сообщали особенную скорость походке пешеходцев.
Один только человек не имел в это время определенной цели и шел по Невскому для того, чтобы идти по Невскому. Он вышел из кондитерской Излера,[1] довольно медленно сошел по ступеням чугунной лестницы, поднял бобровый воротник своего коричневого пальто, вероятно почувствовавши холод, надвинул почти на глаза шапку с меховою опушкою и, заложив руки в карманы, двинулся по направлению к Полицейскому мосту.[2]
Двинулся – сказал я, – потому что в самом деле было что-то непроизвольное в походке этого человека; без сознания и цели он шел, казалось повинуясь какой-то внешней силе, сгорбясь, как бы под тяжестью, медленно, как поденщик, который идет на работу. Он был страшно худ и бледен, и его впалые черные глаза, которые одни почти видны были из-под шапки, только сверкали, а не глядели. Изредка, впрочем, останавливался он перед окнами магазинов, в которых выставлены были эстампы, и стоял тогда на одном месте долго, как человек, которому торопиться вовсе некуда, которому все равно, стоять или идти. Но и глядя на эстампы, он, казалось, не глядел на них, потому что на лице его не отражалось ни малейшей степени участия или интереса.
Во время одной из таких остановок двери магазина, перед окнами которого он стоял, отворились, и из них выпорхнула женщина, которое появление заставило бы всякого, кроме его, выйти из апатии. Черты лица ее были так тонки, цвет кожи так прозрачен, походка так воздушно-легка, что она могла бы показаться скорее светлою тенью, тончайшим паром, чем существом из плоти и костей, если бы яркие, необыкновенно яркие голубые глаза не глядели так быстро и живо, что в состоянии были бы, взглянувши на человека, заставить его потупиться. Она была одета легко и даже слишком легко, потому что все, что было на ней мехового, могло ее украшать, но уже вовсе не греть. Лицо ее было одно из тех немногих у нас лиц, которые, промелькнувши перед вами даже профилем, не выйдут из вашей памяти, потому что, кто бы вы ни были – старик, муж или юноша, они, эти лица, сольются для вас с первыми грезами детства, с первыми снами жизни; одно из тех лиц, на которых странно-гармонически сливаются и чистота младенческой молитвы, и первые грешные мечты, поднимающие грудь женщины, и детски-простая улыбка ангелов Рафаеля, и выражение лукаво-женского кокетства.