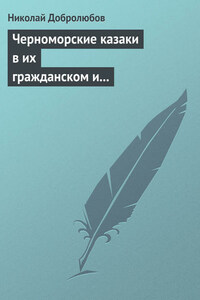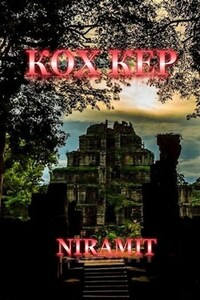Языков – тоже славянофил в своем роде, и вот почему нисколько не удивительно, что г. Перевлесский, издавший уже славянскую грамматику и хрестоматию (в которую, впрочем, не попал Языков), издает, между прочим, и Языкова. Стихотворения этого «певца вина и страсти нежной» до того нравятся г. Перевлесскому, что он, не довольствуясь одним разом, считает нужным, для удовольствия читателей, напечатать некоторые из них два раза в одной и той же книжке. Так, напр., в 1-й части, на стр. 4-й напечатаны три элегии[1], а на стр. 94–95 той же части – те же элегии, только уж каждая порознь. На стр. 96-й 1-й части – послание Т-ву, а на стр. 296-й 2-й части – то же послание с заглавием: «Татаринову». Из этого видно, что желание некоторого библиографа, чтобы все русские поэты изданы были так же тщательно, как теперь Языков, – не совсем справедливо. Впрочем, издание г. Перевлесского хорошо тем, что в нем помещены все статьи, какие были писаны по поводу стихотворений Языкова. Вместе со статьями гг. Погодина, Шевырева, Ксенофонта Полевого тут же есть и отзыв Белинского, который повторять нет нужды[2]. Для любителей веселого чтения тут же находится и рецензия «Библиотеки для чтения», весьма остроумная.
Не считая нужным входить в рассуждения по поводу значения Языкова в истории русской литературы, мы решаемся указать только на одну сторону таланта Языкова, более других почтенную, но менее известную русской публике. На Языкова смотрят обыкновенно как на певца разгула, вина, сладострастия или как на возвышенного патриота, бранившего всех немцев нехристью, прославлявшего Москву, старину и хвалившего
Метальный, звонкий, самогудный,
Разгульный, меткий наш язык…
[3]Все это было в своем роде превосходно. Но мы считаем нелишним указать также и на первое время поэтической деятельности Языкова, когда «шалости любви нескромной, пиры и разгул» воспевал он только между прочим, а лучшую часть своей деятельности посвящал изображению чистой любви к родине и стремлений чистых и благородных. В то время муза его была еще свободна от многих предрассудков кружка, которые заметны в некоторых произведениях последних годов его жизни. Тогда он воспевал родину – не как безусловно совершенную страну, которой одно имя должно повергать в священный трепет, не говоря уже о ее пространстве, ее реках, морозах, кулаках и прочих затеях русской остроты. Нет, источник его тогдашнего сочувствия к родине был гораздо выше: он славил ее подвиги, ее благородные порывы, без всякого затаенного желания приписать их именно известному времени или стране. Он потому любил родину, что видел в ней много великого или по крайней мере способности к великому и прекрасному, а вовсе не находил прекрасным и великим все русское – только потому, что оно народное, русское. В последствии времени Языков уклонился от своего первоначального чистого направления и сначала признал разгул очень хорошею вещью, воображая, что тут сидит русская народность.