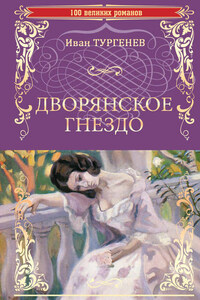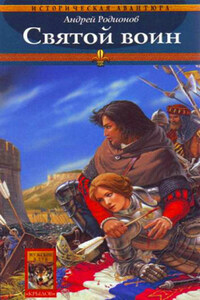Я жил тогда с моей матушкой в небольшом приморском городе. Мне минуло семнадцать лет, а матушке не было и тридцати пяти; она очень молода вышла замуж. Когда мой отец скончался, мне пошел всего седьмой год, но я хорошо его помнил. Матушка моя была небольшого роста белокурая женщина с прелестным, но вечно печальным лицом, с тихим, усталым голосом, робкими телодвижениями. В молодости она славилась красотой и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывал более глубоких, более нежных и грустных глаз, более тонких и мягких волос; не видывал рук более изящных. Я ее обожал, и она любила меня… Но жизнь наша проходила невесело: казалось, тайное, неизлечимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ее существования. Это горе не объяснялось одной печалью об отце, как велика она ни была, как страстно моя мать его ни любила, как свято ни сохраняла память о нем… Нет! тут еще что-то таилось, чего я не понимал, но что я чувствовал, чувствовал смутно и сильно, как только, бывало, взглядывал на эти тихие и неподвижные глаза, на эти прекрасные, тоже неподвижные, не горько сжатые, но словно навек застывшие губы.
Я сказал, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствие ей было тягостным, невыносимым. Она чувствовала тогда как бы невольное отвращение ко мне – и ужасалась потом, винилась со слезами, прижимала меня к своему сердцу. Я приписывал эти мгновенные вспышки вражды расстройству ее здоровья, ее несчастью… Правда, эти враждебные ощущения могли бы, до некоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злых и преступных чувств, которые изредка поднимались во мне… Но эти порывы не совпадали с теми минутами отвращения.
Матушка ходила постоянно в черном, точно в трауре. Жили мы на довольно большую ногу, хотя почти ни с кем не знались.
Матушка сосредоточила на мне все свои помыслы и заботы. Ее жизнь слилась с моей жизнью. Такого рода отношения между родителями и детьми не всегда полезны для детей… они скорее вредны бывают. Притом я у матушки был один… а единственные дети большею частью развиваются неправильно. Воспитывая их, родители столько же заботятся о самих себе, сколько о них… Это не дело. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается с единственными детьми), но нервы мои до времени расстроились; к тому же и здоровьем я был довольно слаб – в матушку, на которую я и лицом очень походил. Я избегал общества своих однолетков; я вообще чуждался людей; я даже с матушкой разговаривал мало. Я пуще всего любил читать, гулять наедине – и мечтать, мечтать! О чем были мои мечты – сказать трудно: мне, право, иногда чудилось, будто я стою перед полузакрытой дверью, за которой скрываются неведомые тайны, стою и жду, и млею, и не переступаю порога – и всё размышляю о том, что там такое находится впереди, – и всё жду и замираю… или засыпаю. Если бы во мне билась поэтическая жилка – я бы, вероятно, принялся писать стихи; если б я чувствовал наклонность к набожности, я бы, может быть, пошел в монахи; но у меня ничего этого не было – и я продолжал мечтать… и ждать.