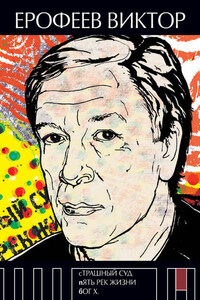Подобно христианскому богу, повседневность всевременна и вездесуща. Однако вряд ли кто-то назовет ее всеблагой. Если представить ее как некое существо, то телом ее будут все дни, лежащие в корне имени, а сущность составят ежедневные ритуалы, отлаженный временем ход событий. Все это – следует из языка. Но станет ли тогда нарушение этих ритуалов, или, чего доброго, разрушение – преодолением повседневности? Именно в этом смысле в обыденной речи употребляется выражение «вырваться из повседневности».
«Царице моя преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!..» – ежевечерне говорила я, стоя на коленях перед иконой Божьей Матери. А в один прекрасный день, воспротивившись механичности повторения, стирающей смысл слов, прочла ее на иврите. Спустя несколько дней я читала Богородице молитву покаянную, сидя перед иконостасом по-турецки. Еще через неделю, зайдя в церковь, после минутных раздумий я повязала свой благочестивый платочек на шею на манер пионерского галстука, помянула черта, и вышла вон.
Вышла – и задумалась: уж не стало ли это нарушение ритуалов, подразумевающее под собой преодоление повседневности, новой формой повседневности? С неизбежностью стало. Как миф. Подвергнувшись попыткам рационального объяснения, старый миф умирает, становясь историей, а новая реальность, пока еще ускользающая от попыток ее объяснить – становится новым, живым (вернее сказать – живущим) мифом. И так – до бесконечности. Подобные безысходности настораживают, если не сказать – пугают.
…Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна!..
Если повседневность состоит из ритуалов, то обыденное мышление в конечном счете сводится к принятию решения: соблюсти или нарушить. Но это – потом, в конце; меня же более результата интересует само мышление. Прежде всего – мышление, обыденное мышление, являющееся в данный момент предметом моего мышления, не является предметом обыденного мышления. Каков его характер? Постклассическая философия говорит, что человеческое мышление – диалогично. Двадцатый век отвергает концепции, согласно которым мышление носит характер монолога, где мыслящий – автономен, и, как следствие, никому не должен. И мысль эта хороша, мысль эта верна и правильна в контексте рассуждений об обыденном мышлении: ведь Повседневность существует в неразрывной связи с Пространством Коммуникации. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести…» А вне упомянутого Пространства некого спасать, убивать, и уж тем более – вести за собой в составе полка. Уставшие от повседневности ищут уединения, где невозбранно можно будет утешаться монологами: