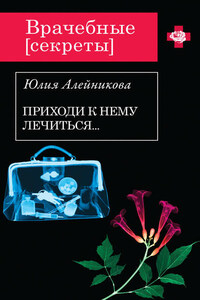Изучение быта кавказских горцев началось уже давно. Сотни лет прошли с тех пор, как генуэзец Интериано и Иоанн Луккский, французы – Шарден и Тавернье, голландец Стрюис, немецкий подданный Олеарий познакомили нас с особенностями религиозного, общественного и юридического быта черкесов, горцев Грузии и Осетии и горцев Дагестана. Литература конца XVIII и начала текущего столетия особенно богата летучими заметками и систематическими описаниями быта горцев. С 1850-х годов, вслед за переходом многих из них под русское владычество, начинается официальная запись их юридических обычаев, или адатов. Беглые этнографические очерки чередуются с многотомными трактатами, и литература о Кавказе начинает приобретать размеры, невольно парализующие в каждом новом исследователе стремление к полноте и всесторонности. Можно было бы ожидать, что при таких условиях не представится затруднения найти ответ на вопросы: что такое горский адат, из каких элементов он сложился? можно ли видеть в нем исключительное выражение народных юридических воззрений или он отражает на себе также те различные воздействия, каким в равное время подчинялась историческая жизнь Кавказа? каково, в частности, его отношение к древним религиозно-юридическим системам, к иранскому, римскому, византийскому, армянскому и грузинскому праву? какую печать наложили на него бродячие народы Севера или прибывшие с Востока арабы и персы? какое, наконец, влияние оказало на него насильственное сближение покоренной силой оружия страны с русской культурой? По всем этим вопросам текущая литература хранит упорное молчание, а между тем они – те самые, от решения которых зависят не только научное понимание кавказского права, но и самое направление нашей внутренней политики в этой окраине. Не получив по ним ответа, невозможно, с одной стороны, определить, в чем именно заключаются оригинальные и чисто народные нормы кавказского права, а с другой – выяснить то положение, какое русское законодательство и суды должны занять по отношению к горскому адату. Таким образом, значение никем доселе не поднятых, впервые поставленных в настоящем труде вопросов одновременно и теоретическое, и практическое. От их скорейшего решения зависят, на наш взгляд, и дальнейшие успехи кавказоведения, и выполнение принятой нами культурной миссии на Кавказе. Без определения тех элементов, из которых сложилась кавказская гражданственность, всякие попытки достигнуть правильного ее понимания неизбежно останутся бесплодными, точно так же, как без выяснения туземных и чужеродных элементов кавказского права русское правительство навсегда останется в неизвестности насчет того, что оно должно сохранить, а что отвергнуть в действующем адате. Этнография и история обязаны на этот раз прийти на помощь законодательству и судебной практике, выясняя им тот путь, по которому они должны идти, имея в виду интересы общественного возрождения края. Автор не обольщает себя мыслью, что печатаемое им исследование заключает в себе последнее слово по возбужденным им вопросам. Он разделяет, наоборот, уверенность в том, что его выводы нуждаются в пересмотре и исправлении со стороны местных исследователей. Задача его слишком обширна, чтобы быть выполненной с надлежащей полнотой и обстоятельностью. Он еще более далек от мысли ждать скорых практических результатов от той новой постановки вопроса об отношении обычая и закона, какую читатель найдет в его труде. Кто имел случай действовать на общественном поприще, тот, разумеется, успел отказаться от иллюзии о возможности непосредственного практического воздействия. Окружающая нас со всех сторон рутина не позволяет сомневаться, что высказываемые автором пожелания, как бы скромны они ни были, осуществятся не раньше, как на расстоянии десятков лет. Русский писатель, видящий в торжестве своих идей единственный стимул для деятельности, несомненно, отложил бы в сторону перо – так мало надежд вызывает в нем действительность. Есть эпохи в истории, когда путеводная нить теряется из глаз, когда прошедшее перестает быть залогом для настоящего и будущего, когда невольно утрачивается вера в прогресс, в неизбежность поступательного движения человечества. Одну из таких эпох переживаем мы ныне. В созданных ею условиях одинокий работник, пишущий в тиши кабинета для неизвестного и, может быть, несуществующего читателя, по всей вероятности, найдет для своей деятельности некоторое оправдание.