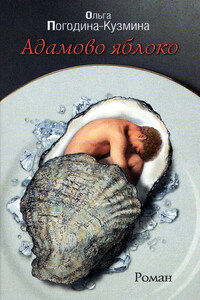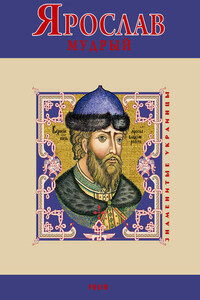Мальчик рисовал членистоногих роботов, умещая их на белых полях журнала, между текстом и глянцевыми фотографиями, а Мяч лежал рядом с ним на кожаном диване – теплый, укрытый курткой – и словно подталкивал его руку. Мальчику хотелось рассказать о пластилиновых героях, которых он рисовал, но история, едва начавшись, спотыкалась о насмешливую снисходительность матери. Уже знакомая брезгливая складка появлялась на ее лице всякий раз, когда он заговаривал об отважных роботах, или воздушном бильярде, или о пиратах из мультфильма, который они смотрели с отцом. Но больше всего маме не нравился футбольный Мяч, который мальчик принес домой в прошлое воскресенье.
Это началось давно, три месяца назад, когда однажды папа не пришел домой вечером, а потом стал жить на другом конце города, в новой квартире, где мальчик побывал только однажды. Там на стене висел огромный черепаший панцирь, и чужая красивая женщина угощала мальчика вкусным тортом, а в чай наливали молоко. Мальчик не понимал, почему папа уехал, откуда взялся черепаший панцирь, и почему мама разлюбила футбол, но знал, что задавать эти вопросы взрослым не имеет смысла.
– Что меня безумно раздражает, он ничего не хочет объяснять, – говорила мать своей новой подруге, оглядываясь на мальчика и понижая голос, как часто делала в последнее время. – Сказал ребенку, что у него много работы, поэтому теперь он будет жить отдельно от нас. Это нормально?
– Может, оставил лазейку, чтобы вернуться? – поливая в соусом рисовые колобки, предположила новая подруга матери, тоже взглянув на мальчика. – Похож на тебя – копия. От отца вообще ни-че-го.
Мать покачала головой.
– Просто он делает так, как ему удобно. А на ребенка наплевать.
Подруга матери обратилась к мальчику с застывшей, неискренней улыбкой.
– Мамины глазки. Правда, у тебя мамины глазки?
Мальчик молча перевернул страницу журнала и потихоньку прижал к себе Мяч. Он снова чувствовал в словах и жестах матери необъяснимую, непонятно откуда взявшуюся неприязнь, почти ненависть к отцу.
Вокруг них сидели жующие люди, мимо столов сновали официанты, и здесь мальчик сильнее ощущал беспричинное, несправедливое отчуждение, вдруг возникшее между ним и его близкими. Заноза обиды, застрявшая где-то внутри, подступала к горлу комком слез, беспокоила его своей готовностью прорваться наружу.