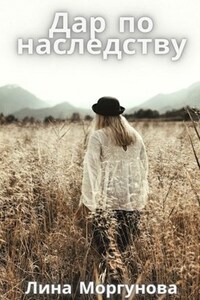В это утро Пилигрим понял, что ему уже не спастись. По телевизору как раз показывали проповедь матроны Слезоточивой из церкви Всех Обретенных Надежд, лицо которой занимало весь экран, так что видны были толстые, свисающие вниз складки на обеих щеках, маленькие, заплывшие жиром глазки, и пухлые сытые губы, вещающие непреходящие истины, известные матроне в самых мельчайших подробностях. Матрона всегда вещала по воскресеньям, призывая жителей города покаяться, и объясняя, почему церковь Всех Обретенных Надежд наиболее истинная по сравнению со всеми другими церквами, существовавшими в городе до нее. Сладкие, сложенные бантиком губы матроны раскрывались в такт ее приторным речам, обнажая ряд гнилых зубов старой прожженной ведьмы, и Пилигрим неожиданно подумал, что у матушки Слезоточивой было в жизни, несомненно, всего два выхода: или сгореть на костре за все совершенные в жизни мерзости и непотребства, или стать вещателем вечных, они же вновь обретенные, истин, которому автоматически списываются все его былые грехи. Пилигрим знал, что долго слушать Слезоточивую он не может, потому что его обязательно начнет тошнить от ее слишком задушевных, и слишком приторных слов, и тогда придется бежать в туалет, наклонять голову над унитазом, и сидеть там какое-то время, давясь недавно съеденным завтраком, а потом долго приходить в себя, теряя драгоценное утреннее время. Поэтому он просто приглушил звук на пятнадцать минут, и делал свои дела, стараясь не смотреть на экран, а когда вновь включил громкость, матушки Слезоточивой в телевизоре уже не было. Там был репортаж о сносе очередной неправильной церкви, которых в городе было чересчур много, но – хвала отцам – основателям новой религии! – скоро с ними будет покончено. Сейчас на экране экскаватор как раз проламывал купол небольшой католической часовни, в которой много лет находилась молочная кухня, и которую решением городского Совета все же решено было снести. Пилигрим знал, что когда-то сам, будучи младенцем, сосал через соску молоко из бутылочки, наполненной в этой молочной кухне, а потом, когда женился, ходил сюда за детским питанием для своей дочери. Впрочем, это все было так давно, и его собственное младенчество, и младенчество его дочери, и женитьба, что он сдержался, и не заплакал, хотя ему очень и хотелось этого. Тут как раз кстати экскаватор проломил окончательно купол часовни, так что стали видны внутри на стенах бледные фрески, написанные лет сто, или двести назад по сырой штукатурке неизвестным художником, и репортаж о сносе ненужного городу здания завершился. Пилигрим выключил телевизор, и подумал, что раз сейчас воскресенье, то неплохо было сходить на набережную, и принять участие во всеобщих гуляниях, показав этим, что он вовсе не сидит целыми днями дома, и не является опасным элементом, замышляющим в тиши заговоры, свержение законных властей, минирование жизненно важных зданий, и тому подобные чудовищные преступления. И что, более того, поскольку такие мысли ему постоянно приходили в голову, и об этом наверняка кое-кто догадывался, необходимо не просто принять участие в воскресных гуляниях, но и обязательно познакомиться с Прекрасной Дамой, как это делают обычно по воскресеньям добропорядочные горожане. А также горожанки, знакомящиеся по воскресеньям с Достойными Мужчинами. При мысли о Прекрасной Даме, с которой ему обязательно придется знакомиться на набережной, он сразу же порядком струхнул, но тут же подавил в себе это чувство, сказав сам себе, что это, возможно, его последняя надежда легализоваться, и не попасть в черный список, выбраться из которого будет потом уже невозможно. Одновременно с этим каким-то краешком подсознания он окончательно понял, что погиб уже безвозвратно, и шансов у него нет никаких, даже если он и встретит свою Прекрасную Даму, но поскольку без дела сидеть тоже было нельзя, он все же заставил себя одеться, и выйти на улицу.