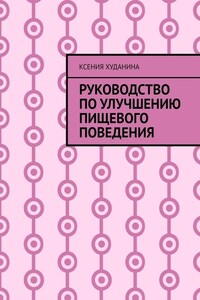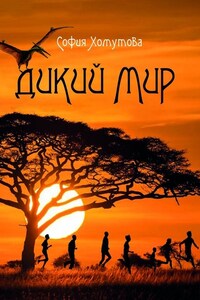В алтарном зале ярко горели настенные
бра, стилизованные под факела — это ещё отец Анатолия Ильича
озаботился, провел электричество. А в остальном всё оставалось
таким же, как и пятьсот лет назад. Когда Андрей Дуров велел сложить
помещение из серого песчаника и на мраморный постамент алтарный
камешек уложил. За это время столько бояр Дуровых здесь перебывало,
что в полу канавки протерлись. Столько этот зал повидал, за века,
ликующих улыбок и разочарованных слез, уже и не
вспомнить.
Вот и сейчас боярич Василий Дуров
стоял перед мраморный кубом. Стоял под нетерпеливыми взглядами
родичей, под закопченными досками потолка и предвечным
небом.
— Пора! — глухо выговорил Анатолий
Ильич, оглядев зал, — Пора, сын.
Васька, с невозмутимым выражением на
азиатской мордахе, шагнул вперед, и уколов ритуальные ножом
подушечку большого пальца, прижал его к камню.
В зале, и без того было не сказать,
чтобы шумно, а теперь и вовсе повисла напряженная тишина. Будто бы
все дышать забыли.
Потекли, посочились томительные
секунды ожидания. Одна, две, пять, много. Очень много секунд
обрушилась в бездну, но ничего не происходило. Боярин Дуров, на
самом деле, и не верил в удачу, но надежда всё же теплилась в его
душе. Безосновательная надежда. А теперь всё — очень много секунд
прошло. Слишком много.
Где-то позади и слева послышался звук.
Будто бы журчание. Анатолий Ильич обернулся и увидел, что это
Василиса — слабоумная сестра боярича попросту описалась
стоя.
«Суки тупые! Всех повыгоняю, на хрен!
— негодовал боярин в адрес горничных, — Неужели сложно догадаться
на блаженную подгузник нарядить! Идиотки»!
Из рядов родичей послышался
сдерживаемый, но оттого не менее гнусный смешок. Дуров побагровел.
Нет, к краху всех своих надежд он морально подготовился, но то, что
это произойдет под смешки зрителей, привело боярина в
ярость.
— А-а-а! — вдруг раздался крик у
алтаря.
То заорал Васька, вечно флегматичный
и, как бы, сонный боярич. Он оглянулся вокруг яростно, а после
полоснул себе ножом по ладони, сильно, до кости.
— Нет! — возопил Анатолий Ильич, — Не
смей!
Но Васька не послушал — с размаху
впечатал окровавленную ладонь в янтарно-желтую с синими прожилками
поверхность алтарного камня. Да так, что аж брызги красные
разлетелись.
За два часа до этого.
Боярин Дуров Анатолий Ильич пребывали
в самом скверном расположении духа. И было с чего. Нет, погода, на
удивление, радовала долгожданным майским теплом. Прислуга,
предусмотрительно не попадалась на глаза, а наглый кот, в другое
время путающийся в ногах, скрылся под креслом и не подавал
признаков жизни. Дурова раздражали не привычные бытовые мелочи, и
не трудности на принадлежащих семье предприятиях. Внешняя политика,
и новый закон о налогообложении служилых родов, что уже третий
месяц обсасывался на заседаниях думы, тоже мало его беспокоили.
Боярина бесила собственная беспомощность, невозможность, хоть
как-то повлиять на дальнейшее развитие событий. Деятельная натура
Дурова, билась в истерике от осознания того, что всё возможное он
уже совершил, и теперь остаётся лишь ждать и надеяться. Ни ждать,
ни надеяться боярин не терпел. Он в тысячный раз прокручивал в
голове цепь событий, приведших род к сегодняшнему вечеру, и не
находил в прошлом ни одной возможности избежать столь позорного
финала. Ему казалось, что строгие лики предков сейчас глядят на
него из-за кромки и осуждающе качают головой. А он... он может
только лишь надеяться на чудо. Только вот чудес не бывает, это
Дуров знал доподлинно. Может быть когда-то, раньше, но не теперь —
в век сурового рационализма.