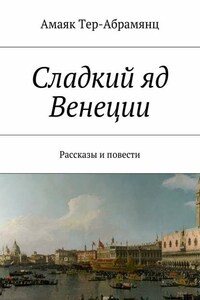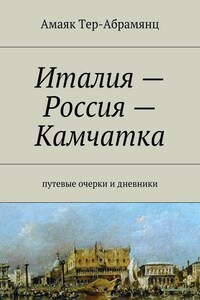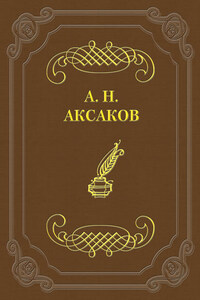Будь прокляты, эти немцы! Будь прокляты, эти немцы!… Ничего, ничего, Павлик, не бойся – видишь какие наши матросы большие, сильные! Это наши матросы, краснофлотцы, самые смелые, самые сильные!… Дрожишь? Холодно? Давай я тебя в свою кофточку… вот так. Ну и что ж что места внизу нет: внизу много народу, внизу жарко и дышать нечем, пахнет, пахнет плохо, Павлик, а здесь на палубе свежий воздух, ветер, солнце… смотри как красиво: небо голубое, облака… море какое зеленое, как стекло, а на волнах белые барашки… Тошнит? – Это ничего, это оттого, что немного качает, это ничего: привыкнешь, пройдет и станешь у меня настоящим моряком, морским волком, да?.. Не станешь? Ну, тогда доктором, обязательно доктором.
Отойти от установки? Да куда же мы? – Ладно, постараемся, в тесноте да не в обиде, и теплее будет… Жарко будет? Шутите, товарищ раненный, здесь же дети! Это самолет? Это чей самолет? Наш, наш, конечно, наши соколы… Господи помоги, зачем он так воет?…
«Не вижу! – орал наводчик зенитки с перевязанной буро-серой тряпкой головой, – от солнца, гад, заходит!»
Матери закрывали собою детей, раненные невольно втягивали головы в плечи, съеживались, будто желая уменьшиться до размера насекомого, вжаться в палубу, забиться в щели…
Равномерно застучала зенитка, выбрасывая на палубу дымящиеся гильзы.
– Га-ады! Га-ады! – стонала толпа беженцев и раненных на палубе, а из трюма, где ничего не видели и не ведали, поднимался утробный вой и стон слепого ужаса.
Открыли огонь и зенитки на бортах, лениво бухнул из орудий, идущий поодаль крейсер «Киров» по неведомой цели.
– Дети же здесь! – визжала обезумевшая женщина, встав во весь рост и потрясая кулачками, но ее жалкий вопль и крики других перестали быть слышными в нарастающем пронзительном вое пикирующего на судно бомбардировщика. На серых крыльях мелькнули черные крестики, а за ботом взвился столб воды, от ударной волны судно резко дернулось и с пораженной осколками надстройки что-то посыпалось и зазвенело.