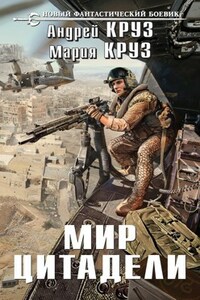«Спи, Малыш, спи»… Эта вечная луна тихонько положила на пол квадрат окна, часть его оказалась на кроватке и согнулась вместе со свисающим одеялом. Он сидел рядом на стуле уже который час, наклонившись вперёд и положив руку на маленькое горячее тельце ровно между лопаток. Вторая рука его свисала с распущенной ладонью и полусогнутыми пальцами.
«Вся усталость и боль стекают вниз, вниз по этим пальцам», – мысленно повторял он, как учили мудрецы ушу. И в полудрёме усталости ему представлялось, что он насос и рука, лежащая на этом тельце, втягивает всю болезнь в себя, а потом жар и боль стекают на пол по другой, опущенной, руке, перемешиваются с лунным светом, растворяются в нём и исчезают.
Пространство становилось бесконечным, глаза закрывались, и ему казалось, что это уже он сам много, необозримо много лет назад лежит с раздутой от свинки перевязанной щекой на старом топчане в угловой комнатке у добрых знакомых в доме, один – с самого дорассветного утра и до позднего вечера. Непереносимо хочется есть, но он знает, что кроме двух кусков чёрного клёклого хлеба ничего нет в тумбочке на кухне и что, если взять в рот кусочек и попробовать жевать, побежит обильная слюна и так заломит в скуле под больным ухом, что нужно будет обязательно выдохнуть какой-нибудь звук, чтобы с ним вместе утекло немножко боли, а потом придётся судорожно глотать воздух, чтобы не задохнуться от его нехватки. И от этого движения в горле станет опять невыносимо больно – так, будто голова треснула и в эту щель всаживается боль, похожая на проволочную сетку, которой моют почерневшие на керосинке кастрюли.
Поэтому он лежит тихо и постанывает изредка от жалости к самому себе и оттого, что время болезни неудачно, потому что на дворе весна, и скоро день рождения, и ручьи такие замечательные бегут, и солнце такое тёплое и безотказное – греет и греет, сколько ни подставляй ему лицо и шею. Тогда все они, мальчишки, садятся в ряд на пустыре на гнилое влажное бревно, подстелив обрывки старых дерматиновых сумок и уже высохших газет.
Он не ждёт. Дремлет в бесконечном дне, отрывается на момент от липкой дрёмы и снова тонет в ней, не поворачиваясь и не шевеля даже пальцами, потому что всё вызывает острую боль. И ещё терпит, терпит до последнего момента, пока, кажется, сейчас лопнет живот, и тут уж, невзирая на колотьё и кружение головы, держась за стенку, босиком по холодному полу стремится в туалет, и долго, долго стоит над ржавым унитазом, в котором струится вечный ручеёк. Потом, продрогнув, летит, лёгкий и почему-то радостный, в свою остывшую постель, поджимает ноги, сворачивается калачиком и замирает: наступает расплата. Тиски боли безжалостны, и ему, чтобы одолеть их, надо, главное, не шевелиться, а это так трудно, когда болит… Он закрывает глаза, и снова благостная дрёма забирает его голодное обессиленное тельце.