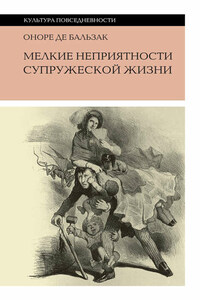Маркизу де Беллуа[1].
Как-то утром у камелька, в великолепном и таинственно уединенном особняке, который надолго останется в наших воспоминаниях, хотя его уже не существует, в том уголке, откуда открывалась перед нами панорама Парижа – от холмов Бельвю до холмов Бельвиля, от Монмартра до Триумфальной арки, что стоит на площади Этуаль, – за чашкой чая шла беседа, в которой вы, как всегда, бросали столько тонких мыслей, рождавшихся внезапно в вашем чудесном уме, сверкавших, как ракеты фейерверка, и мне так хотелось взяться за перо, ибо из ваших слов передо мною возник образ, достойный Гофмана[2], носитель неведомых миру сокровищ души, пилигрим, уже стоящий у врат рая, уже улавливающий изощренным слухом пение ангелов, но бессильный повторить эти звуки устами, – и вот, призвав на помощь клавиши рояля, он в порыве божественного вдохновения пробегает по этим пластинкам слоновой кости напряженными худыми пальцами, и кажется ему, что он передает пораженным слушателям дивную музыку небес.
«Гамбара» создан вами, я только воплотил вашу идею. Позвольте же мне воздать кесарево кесарю и выразить сожаление, что вас не тянет взяться за перо. В наше время дворянин в борьбе за спасение своей страны должен владеть пером так же хорошо, как и шпагой. Вы вольны, конечно, не думать о себе, но обязаны подумать о своем таланте.
* * *
Первый день 1831 года уж раздарил все свои фунтики с конфетами, уже пробило четыре часа дня, уже в Пале-Руаяль[3] хлынула толпа гуляющих, начали заполняться и ресторации. Как раз в это время перед входом в Пале-Руаяль остановилась двухместная каретка, и из нее вышел молодой человек с гордой осанкой, несомненно, иностранец, иначе на козлах его экипажа не сидел бы выездной лакей в треуголке с пышным плюмажем, а на дверцах кареты не красовались бы гербы, которые все еще вызывали негодование в героях Июльских дней[4]. Молодой человек вошел в Пале-Руаяль и смешался с толпой, двигавшейся по галерее; его не удивляло, что идти приходилось весьма медленно из-за этого скопления зевак: по-видимому, для него была привычной неторопливая поступь, иронически именуемая «посольским шагом», однако достоинство его облика немножко отдавало театральностью; черты его были красивы, выражение лица строгое, но шляпа, из-под которой выбивались у левого виска черные локоны, слишком задорно была сдвинута набекрень, и эта ухарская манера не вязалась с его степенным видом; прищурив глаза, он рассеянно и презрительно поглядывал на толпу. Миловидная гризетка, посторонившись, чтобы дать ему дорогу, вполголоса воскликнула: