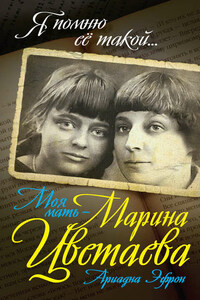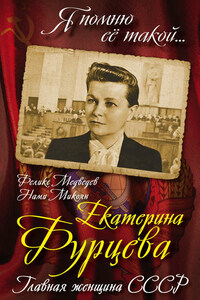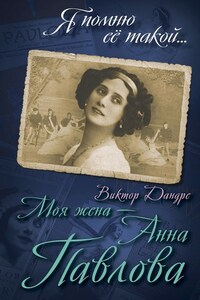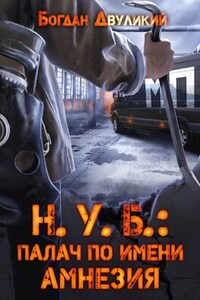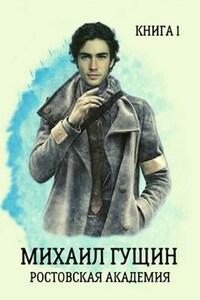У меня плохая память, лишенная стройного порядка, присущего цветаевскому роду. Случаи, события, лица, хранящиеся в ней, не стоят на якоре дат и лишь приблизительно скреплены связующей нитью дней и лет. Вместе с тем помню я так много, что могла бы, если бы умела, написать страницами. Если бы умела. Но есть случаи, когда и неумелый обязан взяться за перо, а любовь и чувство долга обязаны заменить отсутствующий талант. Впрочем, так ли он необходим, когда пытаешься писать именно о таланте? Сумел же Эккерман обойтись без своего, одним гётевским!
Пройдут годы, придут люди, которым будет дано преодолеть преступное равнодушие времени, заставить его вернуть забытое, сказать умолчанное, воскресить убитое и попранное. В помощь этим людям я и пытаюсь записать то, что помню о матери – и о времени.
Первые мои воспоминания о маме, о ее внешности похожи на рисунки сюрреалистов. Целостности образа нет, потому что глаза еще не умеют охватить его, а разум – собрать воедино все составные части единства.
Все окружающее и все окружающие громоздки, необъятны, непостижимы и непропорциональны мне. У людей огромные башмаки, уходящие в высоту длинные ноги, громадные всемогущие руки.
Лиц не видно – они где-то там наверху, разглядеть их можно, только когда они наклоняются ко мне или кто-то берет меня на руки; тогда только вижу – и пальцем трогаю – большое ухо, большую бровь, большой глаз, который захлопывается при приближении моего пальца, и большой рот, который то целует меня, то говорит «ам» и пытается поймать мою руку; это и смешно, и опасно.
Понятия возраста, пола, красоты, степени родства для меня не существуют, да и собственное мое «я» еще не определилось, «я» – это сплошная зависимость от всех этих глаз, губ и, главное, – рук. Все остальное – туман. Чаще всего этот туман разрывают именно мамины руки – они гладят по голове, кормят с ложки, шлепают, успокаивают, застегивают, укладывают спать, вертят тобой, как хотят. Они – первая реальность и первая действующая, движущая сила в моей жизни. Тонкие в запястьях, смуглые, беспокойные, они лучше всех, потому что полны блеска серебряных перстней и браслетов, блеска, который приходит и уходит вместе с ней и от нее неотделим.
Блестящие руки, блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос – вот мама самых ранних моих лет. Впервые же я увидела ее и осознала всю целиком, когда она, исчезнув на несколько дней из моей жизни, вернулась из больницы после операции. Больницу и операцию я поняла много времени спустя, а тут просто открылась дверь в детскую, вошла мама, и как-то сразу, молниеносно, все то разрозненное, чем она была для меня до сих пор, слилось воедино. Я увидела ее всю, с ног до головы, и бросилась к ней, захлебываясь от счастья.