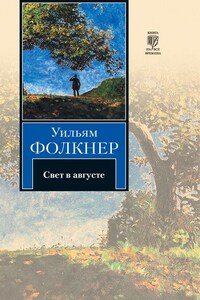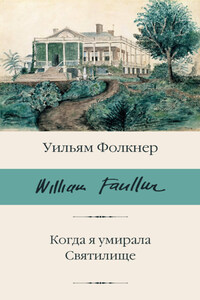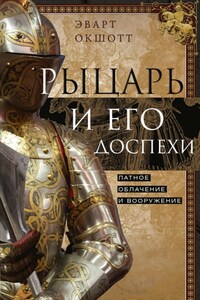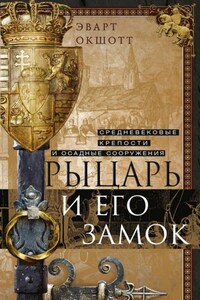Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала. И от Доуновой лесопилки так далеко не бывала с двенадцати лет
Она и на Доуновой лесопилке не бывала, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по шесть, по восемь в году, по субботам, ездила в город – на повозке, в платье, выписанном по почте, босые ноги поставив на дно, туфли, завернутые в бумагу, положив рядом с собой под сиденье. В туфли обувалась перед самым городом. А когда подросла, просила отца остановить повозку на окраине, слезала и шла пешком. Отцу не говорила, почему хочет идти, а не ехать. Он думал – потому что улицы гладкие, тротуары. А Лина думала, что, если она идет пешком, люди принимают ее за городскую.
Отец с матерью умерли, когда ей было двенадцать, – в одно лето, в рубленом доме из трех комнат и передней, без сеток на окнах, в комнате, где вокруг керосиновой лампы вилась мошкара, а пол был вылощен босыми пятками, как старое серебро. Она была младшей из детей, оставшихся в живых. Мать умерла первой. Она сказала: «За папой ухаживай». Лина ухаживала. Однажды отец сказал: «Поедешь на Доунову лесопилку с Мак-Кинли. Собирайся, чтобы к его приезду была готова». И умер. Мак-Кинли, ее брат, приехал на повозке. Отца похоронили днем, в роще за деревенской церковью, и поставили сосновое надгробье. Утром она уехала навсегда – хотя, может быть, и не понимала этого – на повозке, с Мак-Кинли, на Доунову лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть ее к ночи.
Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже семь лет и еще через семь должны были извести весь окрестный лес. Тогда часть оборудования и большинство людей, работавших на нем и существовавших благодаря ему и для него, погрузятся в товарные вагоны и уедут. Но часть оборудования останется – потому что новое всегда можно купить в рассрочку, – и уныло застывшие колеса, поражая взор, будут торчать над курганами битого кирпича и жестким бурьяном, и выпотрошенные котлы упрямо, смущенно, озадаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, непаханой, небороненой, в красных язвах буераков, прорытых тихими мокрыми дождями осени и бешеными косохлестами весенних равноденствий. И тогда иссосанные глистами самозваные наследники, растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнят самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства.