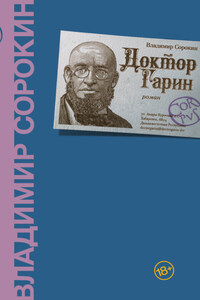Зимний луч солнечный сквозь окно заиндевелое пробился, Марфушеньке в нос попал. Открыла глаза Марфуша, чихнула. На самом интересном лучик солнечный разбудил: про заколдованный синий лес Марфуша опять сон видела да про мохнатых шустряков в том лесу. Подмигивали шустряки мохнатые из-за деревьев синих, высовывали языки огненные изо ртов своих горячих, выписывали языками теми на коре деревьев светящиеся иероглифы, да все самые древние-предревние, сложные-пресложные, неведомые и самим китайцам, такие иероглифы, что тайны великие и страшные открывают. Душа замирает от сна такого, а видеть его почему-то приятно очень.
Откинула Марфуша ногой одеяло, потянулась, увидала на стене живую картинку с Ильей Муромцем, на долгогривом Сивке-Бурке скачущим, и вспомнила – последнее воскресенье сегодня. Последнее воскресенье рождественской недели. Хорошо-то как! Рождество святое все еще не кончилось! В школу токмо завтра идти. Неделю отдыхала Марфушенька. Семь дней будильник мягкий в семь часов не булькал, бабушка за ноги не дергала, папа не ворчал, мама не торопила, ранец с умной машиной спину не тянул.
Встала Марфуша с кровати, зевнула, стукнула в перегородку деревянную:
– Ма-м! Нет ответа.
– Ма-а-ам!
Заворочалась мама за перегородкой:
– Чего тебе?
– Ничего.
– А ничего – так и спи себе, егоза…
Но Марфушеньке спать уж не хочется. Глянула она на окно замерзшее, солнцем озаренное, и вспомнила сразу, какое воскресенье сегодня, запрыгала на месте, в ладоши хлопнула:
– Подарочек!
Напомнило солнышко, напомнили узоры морозные на стекле о главном:
– Подарочек!
Взвизгнула Марфуша от радости. И испугалась тут же:
– А час-то который?!
Выскочила в рубашечке ночной, с косой расплетенной-растрепанной за перегородку, на часы глянула: полдесятого всего-то! Перекрестилась на иконы:
– Слава тебе, Господи!
Подарочек-то токмо в шесть вечера будет. В шесть вечера, в последнее воскресенье Рождества!
– Да что ж тебе не спится-то? – мама недовольно приподнялась на кровати.
Заворочался, засопел носом лежащий с мамою рядом отец, да не проснулся: вчера поздно пришел с площади Миусской, где торговал своими портсигарами деревянными, а ночью опять стучал стамеской, мастерил колыбельку для будущего братца Марфушиного. Зато бабка на печи сразу проснулась, закашляла, захрипела, сплюнула, бормоча: