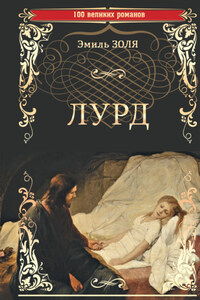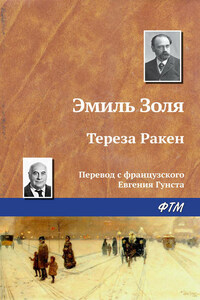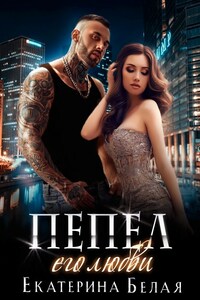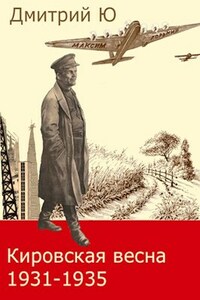Поезд шел полным ходом. Паломники и больные, теснившиеся на жестких скамейках вагона третьего класса, заканчивали молитву «Ave maris stella»[1], которую они запели, лишь только поезд отошел от Орлеанского вокзала; в это время Мари, увидев городские укрепления, в лихорадочном нетерпении приподнялась на своем горестном ложе.
– Ах, форты, – радостно, несмотря на свое болезненное состояние, воскликнула девушка. – Наконец-то мы выехали из Парижа!
Ее отец, г-н де Герсен, сидевший напротив, улыбнулся, заметив радость дочери, а аббат Пьер Фроман с глубокой жалостью и братской нежностью посмотрел на девушку и невольно произнес вслух:
– А ведь придется ехать так до завтрашнего утра, в Лурде мы будем только в три сорок. Более двадцати двух часов пути!
Это происходило в пятницу, девятнадцатого августа. Было половина шестого утра, сияющее солнце только что взошло, но собравшиеся на горизонте густые облака предвещали душный, грозовой день. Косые солнечные лучи пронизывали золотом крутящуюся в вагоне пыль.
Опять тоска охватила Мари, и она прошептала:
– Да, двадцать два часа. Боже мой! Как долго.
Отец помог ей снова улечься в узкий ящик, нечто вроде лубка, в котором она провела семь лет жизни. В виде исключения в багаж приняли две пары съемных колес, которые привинчивались, чтобы возить ящик. Зажатая между досками этого передвижного гроба, девушка занимала на скамье целых три места. С минуту она лежала, смежив веки; худенькое землисто-серое лицо Мари было все же прелестно в ореоле прекрасных белокурых волос, которых не коснулась болезнь, и выражение его было детски-наивно, несмотря на то, что ей уже минуло двадцать три года. Одета она была очень скромно, в простенькое черное шерстяное платье, а на шее у нее висел билетик Попечительства с ее именем и порядковым номером. Мари по собственной воле проявила такое смирение; к тому же ей не хотелось вводить в расходы своих близких, впавших в большую нужду. Поэтому она и оказалась здесь, в третьем классе белого поезда для тяжелобольных, самого скорбного из всех четырнадцати поездов, отправлявшихся в тот день в Лурд, того поезда, который, кроме пятисот здоровых паломников, мчал на всех парах с одного конца Франции на другой еще триста несчастных, изнемогающих от слабости людей, измученных страданиями.