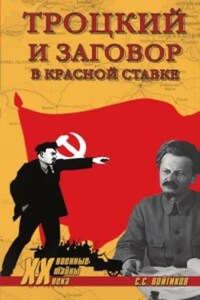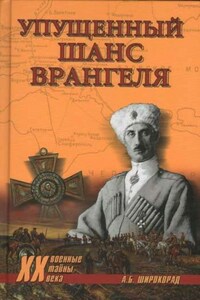«Вы помните, вы все, конечно, помните…»
Пленительный Лель, голубоглазый и златокудрый, беспечный пастушок, поющий задушевные песни, компанейский парень, всеобщий любимец, растрава девичьих сердец – казалось, пришел он из волшебной сказки Островского, прямо из царства мудрого Берендея. В самом имени его – Сергей Есенин – столько весеннего света, ясности, тепла, сердечности.
Поэтесса и журналистка Зоя Бухарова в ноябре 1915 года в репортаже «Петроградской газеты» о поэтическом вечере группы «Краса» просто млела, описывая дебют Есенина на столичном Парнасе (примечательно – первый литературный портрет Есенина принадлежит именно женщине!): «Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкою вышел к настороженной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий девятнадцатилетний крестьянский юноша, с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, высоких сапогах, сразу, уже одним милым, доверчиво-добрым, детски-чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на „о“ рассказывать меткими, ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни („Русь“), когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, – когда перед нами предстал овеянный ржаным и лесным благоуханием „Божией милостью“ юноша-поэт, – размягчились, согрелись холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского Леля».
Это первое впечатление прочно вошло не только в сознание современников, но и на долгие годы мифом приросло к противоречивой, мятущейся личности поэта – вопреки последовавшему вскоре имажинизму, беспутному разгулу, «половодью чувств», вопреки цилиндрам и Айседоре, «Москве кабацкой» и «Черному человеку».
О, эти голубые глаза! О, эти пшеничные локоны! Нет, совсем не Лель, другой персонаж русской литературы трагически заявлял здесь о своем приходе – еще не истративший душу, но уже вступивший на путь экзистенциальных экспериментов Свидригайлов! Без бороды его никто не узнал…