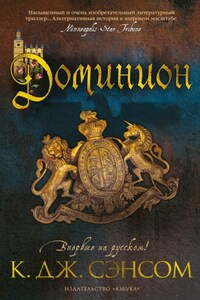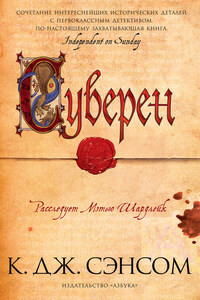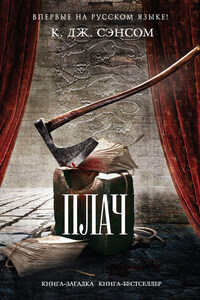Летним вечером на кладбище царила тишина. Гравиевую дорожку покрывали ветки и сучья, сорванные с деревьев буйными ветрами, бушевавшими над страной весь грозовой июнь 1545 года. В Лондоне, где с труб в иных местах посшибало горшки, мы отделались легким испугом, однако на севере ветер учинил настоящий разгром. Поговаривали, что градины были величиной с кулак и на них угадывались какие-то физиономии. Однако, как ведомо любому адвокату, всякая история по мере своего распространения обрастает красочными подробностями.
Все утро я провел в своих палатах в Линкольнс-инн[1], трудясь над краткими изложениями нескольких дел, присланных из ходатайственного суда. Заслушивать их предстояло уже осенью: из-за угрозы вторжения Троицкая судебная сессия по приказу короля завершилась досрочно.
В последние месяцы я обнаружил, что бумажная работа начала докучать мне. За редким исключением из Суда по ходатайствам снова и снова поступали одинаковые дела: лендлорды желали заставить арендующих земли фермеров пасти овец ради доходов от торговли шерстью или по той же самой причине стремились отобрать общинные земли, от которых зависела беднота. Дела доходные, но одинаковые. Однако пока я работал, взгляд мой переместился к письму, доставленному посыльным из Хэмптон-корта[2]. Оно лежало на уголке моего стола – белый прямоугольник, в центре которого поблескивал красный комок восковой печати. Письмо встревожило меня, не в последнюю очередь благодаря отсутствию надписи. Наконец, чтобы удержать мысли от беспорядочного разброда, я решил пройтись.
Оставив палаты, я увидел цветочницу – молодую женщину, прошедшую мимо привратника Линкольнс-инн. В сером платье с грязным фартуком, она стояла на углу Гейтхаус-корт и, выглядывая из глубины белого чепца, предлагала свои букетики идущим мимо барристерам[3]. Поравнявшись с ней, я услышал, как она назвала себя вдовой и сказала, что ее муж погиб на войне. Желтофиоль в ее корзинке напомнила мне о том, что я не был уже почти месяц на могиле моей бедной домоправительницы. Джоан любила желтофиоль. Я попросил букет, и цветочница протянула мне его мозолистой, грубой рукой. Я отдал ей полпенни. Изящно присев, женщина поблагодарила меня, сопроводив этот жест холодным взглядом. Пройдя Великими воротами, я направился вверх по только что замощенной Ченсери-лейн