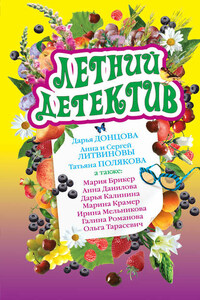1938 год. Карпаты
Раннее утро занималось над горами, скрытыми синей дымкой. После ночного дождя огромные камни в серых пятнах лишайников были скользкими и холодными, но среди них виднелась едва заметная тропинка, пробитая среди мхов и зарослей жерепа[1].
Темные стволы смерек – огромных елей – проступали сквозь туман – звуки шагов плавились в нем и пропадали. Сыро и зябко было вокруг, но отец Павел не замечал этого. Нужно было до восхода солнца дойти до вершины и вернуться в храм к утренней службе. Из-за дождей он три дня не поднимался в часовню и беспокоился, что ее залило водой. Старенькая ряса намокла и облепляла ноги, замедляла ход. Иногда он останавливался, опирался на посох и осматривался окрест. С еловых лап свисали седые лохмы мха-бородача, листья, траву покрывала роса, туман клубился среди деревьев, цеплялся за ветви и кусты. Дышалось тяжело, воздуха не хватало, чем ближе к вершине, тем чаще останавливался отец Павел и тем дольше переводил дыхание.
С Пасхи, когда сошли густые снега, завалившие дороги в долину, его не покидала тревога – неясная и оттого более болезненная, которая отнимала силы. Прихожане приносили вести снизу. И вести эти – противоречивые, смутные и поэтому страшные, вероятно, и породили тревогу.
Люди шептались о хлопаках, что нападали на польские имения, поджигали их и расправлялись с владельцами, убивали поветовых чиновников и местечковых старост, пограничников и полицейских. Это они расправились с польской учительницей на глазах учеников, а после сожгли школу, подперев двери бревном, а тех детишек, что пытались выбраться из окон, забивали бартками[2] и хохотали… Хохотали!..
Отец Павел перекрестился и перевел дыхание. До вершины оставалось совсем ничего, а силы почти оставили его. Он скользил по мокрой глине, хватался за ветки и с трудом преодолел последние метры тропы. Ели расступились, открыв взгляду нагромождение камней, затянутых можжевельником. Часовенка с этого места была не видна, но через десяток шагов покажутся из-за скальных обломков сначала крест, затем луковка, а потом и она сама, установленная на перевале рядом с разрушенной польской каплицей[3] и каменным крестом.
С каждым годом ему становилось все тяжелее подниматься к часовне, и он знал, что когда-нибудь не сможет этого сделать. Все чаще давала знать о себе раненая нога, и легкие, тронутые немецким хлором, плохо справлялись с разреженным воздухом высокогорья.